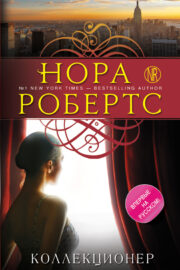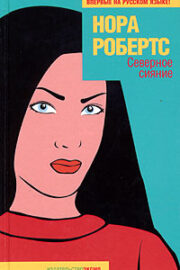Глава 22
Такер был уверен, что теперь все изменится. Ему казалось, что они с Кэролайн без слов сказали друг другу очень многое. Воздух в спальне был наполнен ее присутствием, и у него было такое чувство, словно нервы его – обнаженная проводка, которую вдруг сунули в воду, и она взрывается и искрит.
Хотелось закурить, но пачка сигарет в кармане рубашки промокла под дождем.
Когда он вошел в кухню, Кэролайн стояла у окна – почти так же, как в то утро после приезда Бернса. Только на этот раз она глядела в темноту.
Такер не хотел, чтобы она созерцала ее в одиночестве. Он подошел к ней сзади, положил руки на плечи и почувствовал легкий укол страха, когда от его прикосновения она словно одеревенела.
– Знаешь, обычно, когда у женщины портится настроение, я начинаю шутить и болтать и делаю все, чтобы опять уложить ее в постель. А если это не удается, то стараюсь поскорее убраться. Но с тобой эти испытанные средства, очевидно, не пройдут.
– Отчего же? Я не возражала бы сейчас услышать хорошую шутку.
Такер уткнулся лбом ей в волосы. Что же это такое? Неужели он не в состоянии придумать или вспомнить ничего забавного? Он мог сейчас думать только о том, что беспокоит и мучит ее.
– Поговори со мной, Кэролайн, расскажи мне все. Она нервно передернула плечами.
– Но мне нечего сказать.
Взглянув в окно, Такер увидел, как они двое отражаются в темном стекле. Кэролайн наверняка тоже видела это отражение, но знала ли она, как оно хрупко, как легко его можно уничтожить?
– Когда несколько минут назад ты сошла вниз, я все еще ощущал тебя, ты как будто лежала рядом – такая мягкая и доступная. А сейчас ты словно железная проволока, завязанная узлом, и мне это не нравится.
– Но к тебе это не имеет отношения.
Такер так стремительно развернул ее к себе, что она удивленно расширила глаза. В голосе его зазвучали скрытое раздражение и даже угроза.
– Ты желаешь использовать меня только для секса, а до остального мне и дела быть не должно? Если так, то говори прямо. Если то, что сейчас было между нами наверху, просто возня на жарких простынях, – так и скажи, и я ничего от тебя больше требовать не буду. Но знай, что для меня этого недостаточно. – Он легонько встряхнул ее, словно хотел разрушить вновь возникшую между ними преграду. – Проклятие, никогда еще у меня не было такого, как сейчас!
– Не дави на меня! – Сверкнув глазами, она уперлась руками ему в грудь. – Всю свою жизнь я терпела постоянное давление посторонних. И я больше так не могу. Я с этим покончила.
– Но со мной ты еще не покончила. И если думаешь, что можешь просто несколько раз трахнуться со мной, а потом выставить меня прочь, то ошибаешься. Я человек привязчивый. – И в доказательство своей правоты он поцеловал ее крепким собственническим поцелуем. – И лучше нам обоим начать к этому привыкать.
– Но я вовсе не собираюсь привыкать к чему-либо. Я могу согласиться, могу отказать или же… – Она внезапно замолчала и закрыла глаза. – Ну что же я с тобой-то ссорюсь? Ведь ты не виноват. – Глубоко вздохнув, она высвободилась из его рук. – Это не из-за тебя, Такер. Прости, я больше не буду кричать на тебя. Тем более что это ничему не поможет.
– Но я ничего не имею против, если ты немного и покричишь, – при условии, что тебе от этого полегчает.
Она улыбнулась и рассеянно потерла висок.
– Наверное, одна чудодейственная таблетка доктора Паламо – лучший выход из этого состояния.
– Нет, давай лучше попробуем что-нибудь другое. – Он схватил ее за руку и подвел к стулу. – Садись, а я налью нам по стаканчику того вина, которое недавно привез. А потом ты мне расскажешь, почему тебя так взбудоражил этот телефонный звонок.
– Взбудоражил? – Она закрыла глаза и откинулась на спинку стула. – Моя мать сказала бы иначе – «взволновал». Но мне больше нравится твое определение. – Она открыла глаза и постаралась снова улыбнуться ему. – Я действительно была несколько взбудоражена в последнее время… Мне позвонила моя мать.
– Это я понял. – Такер вытащил пробку из бутылки и разлил вино. – И что же? Она «взволнована» тем, что случилось вчера?
– Ну конечно. Особенно если учесть, что это была главная тема разговора на званом обеде, на который ее пригласили. Мы, янки, тоже любим сплетничать, хотя общество, в котором вращается моя мать, предпочитает это называть «поддерживанием контактов». Но она особенно расстроилась из-за того, что пресса пошла по следу здешних событий. И она опасается, что публика может не захотеть слушать моцартовский скрипичный концерт № 5 в исполнении женщины, которая совсем недавно кого-то застрелила.
Она взяла стакан, протянутый Такером, и отпила глоток.
– Она могла бы побеспокоиться и о тебе…
– Могла бы, но это – в последнюю очередь. Нет, ты не думай, она меня очень любит, но по-своему. Мама всегда хотела для меня самого лучшего – точнее, того, что она считала лучшим. И всю свою жизнь я старалась удовлетворять это желание. Но однажды я взглянула на себя в зеркало и поняла, что больше так продолжаться не может…
Такер сел рядом с ней. Обняв ладонями стакан, Кэролайн огляделась вокруг. Простучал старый холодильник и снова перешел на обычное покряхтывание. За окном мелодично накрапывал дождь. На столе дрожал отсвет керосиновой лампы, и в полутьме было почти незаметно, что линолеум давно вытерся, а занавески выцвели.
– Мне нравится этот дом, – пробормотала Кэролайн. – Несмотря ни на что, я чувствую себя здесь хорошо. И знаешь, у меня вдруг появилась потребность стать частью чего-то. Я поняла, что мне нужны простота и постоянство.
– Но незачем говорить это таким извиняющимся тоном. Кэролайн нахмурилась. Неужели он все еще присутствует, этот извиняющийся тон, который она усвоила для себя уже давно?
– Это у меня получается автоматически. Во всяком случае, я стараюсь от него отделаться. Но видишь ли, мама никогда бы не поняла того, о чем я тебе сейчас говорю и что я чувствую.
– Таким образом, проблема заключается в следующем: или ты ублажаешь ее, или себя.
– Ты совершенно прав. Но мне трудно, потому что мое «самоублажение» очень отдаляет ее от меня. Просто совсем. А ведь моя мама выросла в этом доме, Такер, но она этого стыдится. Она стыдится того, что ее отец разводил хлопок, иначе ему не на что было бы жить, и что ее мать сама закручивала домашние консервы и варенье. Она стыдится своих корней, стыдится двух людей, которые дали ей жизнь и не жалели трудов, чтобы эта жизнь была приятной и легкой!
– Ну, это ее проблема, а не твоя.
– Но именно из-за того, что она всегда стыдилась своего прошлого, я оказалась здесь. Мама не дала мне возможности как следует узнать моих бабушку и дедушку. А ведь они во всем себя урезали, чтобы дать ей шанс поступить в Филадельфийский колледж. Но это все я узнала не от нее, – прибавила Кэролайн с горьким сожалением. – Мне это рассказала Хэппи Фуллер. Моя бабушка вынуждена была брать стирку на дом, обшивать соседей – и все для того, чтобы оплатить ее учебу в университете. Правда, бабушке не пришлось заниматься этим слишком долго: в первый же семестр мама встретилась с моим будущим отцом. Уэверли были старой известной семьей в Филадельфии с прочным, установившимся положением. Наверное, маме было трудно войти в этот круг. Но, насколько я помню, она была большей снобкой, чем все Уэверли, вместе взятые, хотя у них был дом в лучшей части города, они заказывали одежду у лучших кутюрье и отдыхали, как положено, на лучших курортах и в строго положенное время года.
– Многие переигрывают, когда им надо что-то доказать.
– О да. А ей надо было доказать многое. И вскоре она произвела на свет ребенка, который должен был ей помочь утвердиться. У меня была няня, имевшая дело с прозаическими сторонами воспитания, а мама заботилась только о моем внешнем виде, моем поведении и манерах. Обычно она посылала за мной, и я приходила в ее гостиную. Там всегда пахло оранжерейными розами и духами «Шанель». И она очень терпеливо наставляла меня, что должна делать и чем должна быть представительница семейства Уэверли.
Такер коснулся ее волос.
– И что же ожидалось от Уэверли?
– Совершенства во всем!
– Да, это задачка… Будучи Лонгстритом, мой папаша ожидал от меня только одного – чтобы я «был мужчиной». Но довольно скоро наши представления о том, что такое настоящий мужчина, несколько разошлись. И, уж конечно, нам было не до гостиной. Он предпочитал учить меня уму-разуму в дровяном сарае.
– Нет, моя мама ни разу не подняла на меня руку: просто повода не было. Кстати, это она решила насчет скрипки – ей казалось, что это очень изысканно. Надо сказать, скрипку я сразу полюбила и до сих пор благодарна ей, – вздохнула Кэролайн. – Но потом оказалось, что маме нужна не просто хорошая игра. Я непременно должна была стать лучше всех! К счастью, у меня оказались способности. Меня даже называли вундеркиндом, и в десять лет я уже морщилась, когда слышала это слово. Мама сама выбирала, что исполнять, выбирала учителей и концертные платья. И точно так же она подбирала мне друзей… Затем я начала разъезжать с концертами – сначала лишь время от времени, потому что была еще мала. Но к шестнадцати годам мой путь был определен, и следующие двенадцать лет я следовала только по нему.
– А тебе этого хотелось?
Вопрос заставил Кэролайн улыбнуться: ведь еще никогда никто ее об этом не спрашивал.
– Каждый раз, когда я начинала сомневаться в своем выборе, она была тут как тут – или беседовала со мной лично, или звонила по телефону, или присылала письмо. Она словно чувствовала каждый раз, что во мне начинает зарождаться крошечное зернышко протеста и желания взбунтоваться. И она уничтожала его, а я ей это позволяла…
– Почему?
– Я хотела, чтобы она меня любила! – Глаза Кэролайн наполнились слезами, но она их быстро смигнула. – Я до сих пор уверена, что, если бы не достигла совершенства, она бы меня не любила. Наверное, это звучит сентиментально…
– Нет. – Такер вытер непрошеную слезинку, которая все-таки заскользила по ее щеке. – Просто печально. Хотя это твоя мать должна была бы печалиться в первую очередь.
Кэролайн прерывисто вздохнула, словно пловец, из последних сил плывущий к берегу.
– Три года назад, в Лондоне, я встретилась с Луисом. Он был самым блестящим дирижером из всех, с кем я когда-либо играла. Несмотря на молодость – всего тридцать два, – он уже заработал прекрасную репутацию в Европе. Луис орудует оркестром, как матадор быком. Он определенно обладает каким-то особым магнетизмом – такой решительный, высокомерный и сексапильный.
– Представляю себе. Кэролайн усмехнулась.
– А мне было двадцать пять, и я еще никогда не была с мужчиной.
Такер удивленно взглянул на нее, не донеся стакан до рта.
– Ты никогда до этого…
– Нет, представь себе. Никогда и ни с кем. В юности мать держала меня на очень коротком поводке, и у меня не хватало решительности чересчур его натягивать. Когда мне нужен был сопровождающий на какой-нибудь прием, она сама мне его подбирала. Ты можешь, конечно, представить, что наши вкусы в данном случае не совпадали. Мне всегда казались неинтересными те мужчины, которых она считала для меня подходящими.
– Вот поэтому я тебе и понравился. – Такер нагнулся, чтобы поцеловать ее. – Она бы, наверное, просто поседела, увидев меня.
– И как же я об этом не подумала?! – Кэролайн рассмеялась и чокнулась с ним. – А позже, когда я стала ездить самостоятельно, мое расписание было такое напряженное… Но главное – я была, как говорится, «сексуально зажата».
Вспомнив, какой была сейчас в постели эта женщина, он только протянул:
– Ага…
Кэролайн даже не подозревала, что насмешка может утешить.
– Напрасно ты мне не веришь. Моя сексуальность вся уходила в музыку, и Луису пришлось со мной очень непросто. Она пожала плечами и выпила.
– Он меня просто взял приступом. Цветы, проникновенные взгляды, отчаянные клятвы в вечной любви… Кроме всего прочего, он обеспечивал мне постоянную занятость, и к этому следует добавить, что моя мать его просто обожает. Он принадлежит к испанской аристократической семье.
– Что ж, действительно подходящая партия, – заметил Такер.
– О, разумеется. Когда я улетала в Лондон или Париж, он мне звонил каждый день, посылал очаровательные подарки, роскошные цветы. Он срочно прилетел в Берлин, чтобы провести со мной уик-энд. И так продолжалось больше года. А если до меня доходили слухи, что он флиртует с некой актрисочкой или ухаживает за светской знаменитостью, я просто не обращала на них никакого внимания. Я считала это злонамеренной клеветой. Ну, может быть, я и подозревала кое-что, но, если позволяла себе только намекнуть, он сразу же приходил в ярость из-за моей совершенно беспричинной ревности и недостатка самоуважения. А кроме того, я была очень занята своим делом.
Кэролайн замолчала, окунувшись памятью в прошлое.
– Одним словом мои отношения с Луисом начали сильно осложняться, и все кончилось безобразной сценой с обвинениями и слезами. Обвинял, разумеется, он, слезы были мои. Я тогда еще не умела постоять за себя.
Такер погладил ее руку.
– Но ты быстро этому научилась, когда действительно потребовалось.
– Как бы то ни было, мы с Луисом расстались. Мне очень хотелось немного отдохнуть, но я была уже связана контрактом на один музыкальный телесериал. А здоровье мое… – Кэролайн было трудно говорить об этом даже теперь. Пусть это выглядело страшно глупо, но она почему-то очень смущалась, когда речь заходила о ее болезни. – Ну, в общем, состояние мое ухудшалось с каждым днем. И я…
– Подожди. Что значит – «ухудшалось»?
– Ну, начались головные боли. Я вообще-то к ним привыкла давно, но они становились все сильнее. Я похудела, началась бессонница, а это привело к переутомлению.
– Но почему же ты не позаботилась о своем здоровье?
– Я думала, что, наверное, чересчур ношусь с собой. А кроме того, у меня были обязательства, я просто не могла все это бросить… – Кэролайн коротко рассмеялась. – Это все самооправдания, как сказал бы мудрый доктор Паламо. А правда заключалась в том, что я пряталась. Я бежала в работу, в ней одной старалась найти прибежище. Я ведь была зажата не только сексуально: меня воспитали так, чтобы я всегда вела себя «как следует». Но когда я записывалась в Нью-Йорке для телесериала, туда приехала мать в сопровождении Луиса. Я так разозлилась, так была уязвлена этим, что прервала запись. – Кэролайн улыбнулась и покачала головой. – Я еще никогда себе такого не позволяла. И ты знаешь, у меня появилось ощущение торжества. Мне казалось, что теперь я наконец управляю своей жизнью. Это были очень вдохновляющие пять минут.
Не в состоянии больше сидеть, Кэролайн резко поднялась из-за стола и стала ходить по комнате.
– Но через пять минут мать уже ворвалась ко мне в гримерную и прочла целую лекцию. Я, по ее словам, вела себя, как избалованный, испорченный ребенок, как зазнавшаяся примадонна. Я попыталась объяснить, что чувствую себя преданной, что она не должна была привозить с собой Луиса. Но она просто накинулась на меня – я груба, я глупа, я неблагодарна… Она говорила, что Луис готов мне все простить – мои капризы и мою неразумную ревность. Ну, и кончилось тем, что я опять попросила извинения.
– За что же?
– Да за все, что она хотела, – сказала Кэролайн и махнула рукой. – Ведь, в конце концов, она действительно желала мне только добра и столь многим сама пожертвовала ради моей блестящей карьеры…
– Значит, твой собственный талант как бы не в счет? Кэролайн глубоко вздохнула, словно желая выдохнуть часть снедавшей ее горечи.
– Такер, она такая, какая есть, и другой быть не может. Я уже почти научилась понимать это. Ну, а Луис в тот же вечер пришел ко мне в гостиницу. Он был обворожителен, мил. Он страшно сожалел о том, что произошло, и был готов все объяснить. Он говорил о своем одиночестве во время наших размолвок, о том, что другие женщины были только суррогатом, вынужденной заменой. О том, что он больше ни на кого не посмотрит, если я к нему вернусь… Можешь себе представить идиотку, которая всему этому поверила?
Такер многозначительно и несколько смущенно ухмыльнулся. Кэролайн удивленно уставилась на него, но потом рассмеялась:
– Ну конечно, можешь. И я тоже могу. Ведь он все еще оставался единственным мужчиной, с которым я была в постели. Если бы у меня самой за это время были какие-нибудь романы на стороне, я вряд ли бы с такой готовностью вернулась к прежним отношениям. Во, можно, будь я белее уверена в себе как женщина, я бы показала ему на дверь. Но я согласилась забыть о наших прежних ошибках и недоразумениях и все начать заново. Мы даже заговорили о браке… О, конечно, в очень отдаленном будущем, очень туманно и неопределенно. «Во благовремение» – так он выразился. Кроме того, Луис попросил меня заключить с ним контракт на еще одно турне, и я согласилась. – Кэролайн с легким удивлением взглянула на свой стакан. – А я, кажется, пьянею…
– Ну и хорошо. Тебе ведь не нужно вести машину. Досказывай остальное.
Она облокотилась о стойку буфета и пожала плечами.
– Луис должен был дирижировать, а я выступать в роли ведущей солистки. Доктор Паламо – а я как раз начала тогда с ним консультироваться – пытался меня отговорить. Он считал, что мне необходим отдых, что у меня стрессовое состояние, и если я опять побегу по той же дорожке, мне скоро станет еще хуже. Но я его не послушалась. «Ведь мы с Луисом будем вместе, – думала я, – а разве это не самое главное?»
– Да он просто должен был насильно уложить тебя в больницу и приковать цепью к кровати!
– А ты бы ему понравился, – усмехнулась Кэролайн и отпила еще вина. – Мама закатила вечеринку накануне нашего отъезда. Она была в своем репертуаре и намекала приглашенным, что на самом деле это вечеринка в честь нашей помолвки. И Луис вел себя соответственно. А потом мы отправились в путь… Как я уже говорила, он блестящий дирижер. Очень требовательный, капризный, но совершенно замечательный. Все было бы прекрасно, только через неделю после нашего отъезда он переехал в отдельный номер. Сказал, что из-за моей бессонницы он тоже не может как следует спать.
– Грязный негодяй!
– Нет, не грязный, – педантично поправила его Кэролайн. – Просто скользкий. Ну, а в остальном было все как прежде. На профессиональном уровне он оказывал мне огромную помощь. Он меня толкал все выше и выше. Он говорил, что я самая замечательная из всех скрипачей, с которыми он работал, но могу быть еще лучше. И что он сделает из меня гения.
– Ну и купил бы себе резиновую куклу, чтобы надувать ее, насколько ему потребуется!
Кэролайн усмехнулась.
– Да, жаль, что я не догадалась ему это посоветовать. Но надо отдать Луису справедливость: он не жалел ни времени, ни усилий, чтобы усовершенствовать мою игру. Беда в том, что я начала ощущать себя только инструментом, чем-то таким, что он мог настраивать и перенастраивать. А я так устала, так была уже больна и неуверена в себе… Но я хорошо играла! Нет, действительно хорошо. Я мало что помню о самом турне – какой-то калейдоскоп концертных залов и бесконечных гостиничных номеров – но я знаю, что выступала хорошо, даже лучше, чем обычно. Однако по дороге я подхватила какую-то инфекцию и жила на антибиотиках, фруктовых соках... и музыке. Мы совершенно перестали спать вместе. Но он заверял меня, что, как только турне будет окончено, мы с ним куда-нибудь уедем вдвоем. Так что я жила этой надеждой: вот кончится турне, и мы будем нежиться на каком-нибудь теплом пляже… Но я не смогла дотянуть до конца. Мы были в Торонто и уже три четверти концертной программы отыграли, когда я упала в обморок в гримерной. И ужасно испугалась, когда очнулась и увидела, что лежу на полу.
– Боже мой, Кэролайн! – Такер привстал, но она отрицательно покачала головой.
– Нет, это страшнее звучит, чем было на самом деле. Я не инвалид, я просто очень сильно устала тогда. И у меня началась эта моя ужасная головная боль, когда хочется свернуться клубочком и зарыдать. Я решила, что надо отменить концерт – только этот, единственный; что я сейчас пойду к нему, все объясню, и он, конечно, меня поймет. И я к нему пошла. Представь, он тоже лежал на полу в своей гримерной – только под ним была флейтистка. Они даже не заметили меня… – сказала Кэролайн словно про себя и пожала плечами. – Как бы то ни было, я в тот вечер вышла на сцену. И это было звездное выступление! Зрители аплодировали стоя, меня вызывали шесть раз после того, как занавес опустился. Может быть, вызвали бы еще, но, когда занавес упал в шестой раз, я тоже упала. И помню, что очнулась на больничной кровати.
– Попался бы мне этот сукин сын… – пробормотал Такер. Кэролайн покачала головой.
– Я сама была во всем виновата. Вернее – моя несчастная потребность делать все возможное и невозможное, чтобы соответствовать сложившемуся обо мне представлению. Это не из-за Луиса я заболела. Я сама себя довела до диагноза «крайнее нервное истощение». По счастью, все было не так уж плохо: у меня не нашли ни опухоли, ни какой-нибудь редкой экзотической болезни. В конце концов все объяснили нервной дистрофией, осложненной к тому же пережитым стрессом. Сам доктор Паламо прилетел, чтобы лечить меня. И никаких при этом: «А я вам что говорил!» Он просто оказывал мне необходимую помощь и сочувствовал. Однажды он чуть не пинком выгнал Луиса из моей палаты.
Такер поднял стакан:
– Здоровье доктора Паламо!
– Да, за него стоит выпить. Он был добр ко мне ради меня самой. Если мне надо было поплакать, он позволял, а когда мне хотелось поговорить, он меня слушал. Хотя он не психиатр. Но мне и не нужны были психиатры: я доверяла только ему. Когда стало возможно, доктор Паламо перевез меня в филадельфийскую больницу. Впрочем, она больше напоминала санаторий. А мама всем говорила, что я выздоравливаю на нашей вилле на Ривьере. По ее мнению, это звучало как-то более внушительно.
– Знаешь, Кэролайн, должен тебе доложить, что твоя мама мне не очень нравится.
– Все в порядке, не беспокойся, ты бы ей тоже не понравился. Но она неукоснительно исполняла свой долг: три раза в неделю посещала меня. А Луис присылал мне цветы и романтические письма: у него и в мыслях не было, что я его видела с этой флейтисткой.
Я смогла вернуться домой только через три месяца. Должна сказать, пребывание в больнице пошло мне на пользу: я о многом успела передумать. Физически я еще не совсем окрепла, но тем не менее никогда в жизни еще не чувствовала себя такой сильной. Я начала понимать, что мой талант принадлежит мне и моя жизнь – тоже. О господи, Такер, я просто выразить тебе не могу, какой восторг меня охватил, когда я все это поняла! Я решила, что больше не позволю себя эксплуатировать. И когда со мной связались юристы по поводу бабушкиного дома, я уже знала, что буду делать. Когда я все сказала матери, она пришла в негодование. Но я была готова к этому и выдержала ее натиск, поскольку понимала: или сейчас – или никогда. Я стояла в этой проклятой жеманной гостиной и просто орала! Я была в ярости, я требовала… Конечно, потом я извинилась – старые привычки умирают последними, – но я твердо и упорно стояла на своем. И уехала на Юг.
– В Инносенс?
– Сначала в Балтимор. Я знала, что Луис там дирижирует для какой-то приезжей знаменитости. Сначала я ему позвонила, чтобы не явиться нежданно-негаданно. Он так обрадовался, он был просто в восторге! Когда я пришла к нему в номер гостиницы, он уже заказал интимный обед на двоих. Я старалась держаться очень спокойно, и, представь себе, мне это удавалось. Я даже пообедала с ним. Ну а потом… В общем, я все ему сказала. И пока говорила, во мне поднималась волна ярости. Я уже не выбирала слов, не думала о последствиях… Ох, Такер, я совершенно распоясалась! Кончилось тем, что я швырнула в него бокал шампанского. И ушла.
– И что ты при этом чувствовала?
– Освобождение! – «А между прочим, голова больше не болит, совсем не болит», – подумала Кэролайн и снова присела К столу. – Правда, у меня все еще бывают такие моменты, когда чувство свободы исчезает, – как во время этого телефонного разговора. Нельзя сразу отделаться от всего хлама, накопившегося за целую жизнь. Но я знаю одно: такой, как прежде, я уже никогда не буду.
– Вот и хорошо. – Он взял ее руку и поцеловал в ладонь. – Ты мне теперешняя очень нравишься.
– Я себе тоже, как правило, нравлюсь. Только тяжело сознавать, что я могу никогда не помириться с матерью, никогда не залечить эту рану… Зато я нашла здесь кое-что другое.
– Ты нашла наконец покой?
Этот вопрос заставил ее улыбнуться:
– Да уж, здесь очень спокойно. Подумаешь – всего несколько убийств! – И она сказала уже серьезно:
– Нет, я нашла здесь свои корни – вернее, обрела их снова. Знаю, это, наверное, звучит глупо: ведь за всю жизнь я провела здесь всего несколько дней, да и то в детстве. Но даже сухие корни лучше, чем ничего.
Такер покачал головой.
– Они не высохли, они живут. У нас в Дельте все растет быстро и глубоко укореняется. И даже когда люди уезжают, они не могут выдернуть корни из нашей почвы насовсем.
– Но моей матери это удалось.
– Нет, она просто пустила эти корни в тебя, Кэролайн. – Такер ласково обхватил ее лицо ладонями. – Нет, ты смотри, смотри на меня! – настойчиво сказал он, потому что она опустила глаза. – Ты все еще как будто стыдишься того, что произошло, и не хочешь, чтобы кто-нибудь тебя жалел. Но я никогда не подавлял своих чувств, и ты можешь им довериться. Я испытываю ярость, когда думаю о том, что тебе пришлось пережить. Но если все это, вместе взятое, привело тебя в конце концов сюда, я не могу чересчур сожалеть о твоих былых обидах и несчастьях.
– И я тоже ни о чем не жалею, – твердо сказала Кэролайн. Она выглядела такой хрупкой и уязвимой: эти тонкие косточки, эта бледность… Но Такер подумал, что в ее взгляде таятся глубины, в которых можно утонуть. И сила, о которой она сама еще не знает. Ему очень хотелось быть рядом, когда она сделает для себя это открытие.
– Кэролайн, я хочу тебе кое-что сказать, только не знаю, как… Она взяла его руки в свои.
– Я боюсь, что еще не готова. Я тебя выслушаю, когда почувствую себя более уверенно. А пока пусть все останется как есть. Прошу тебя.
«Я всегда был терпеливым», – напомнил себе Такер. Но трудно быть терпеливым, когда кажется, что стоишь на узенькой жердочке, а земля уходит из-под ног.
– Хорошо. – Он нагнулся и легонько поцеловал ее в губы. – Ты позволишь мне сегодня переночевать у тебя? Кэролайн положила голову ему на плечо.
– А я уж думала, ты никогда не догадаешься попросить об этом… Кажется, ты сказал, что, если мне не понравится, мы сделаем еще одну попытку?
– А тебе не понравилось?
– Да нет… Я просто не уверена. И если бы ты еще раз попытался, то, может быть, я сумела бы составить более определенное мнение.
– Ну что ж, это вполне справедливо. – Такер оглядел кухонный стол, ухмыльнулся и предложил:
– А что, если начать прямо здесь? – Он развязал пояс ее халата. – Можно было бы выработать свой собственный стиль, черт побери!
Прозвонил телефон, и Кэролайн недовольно поморщилась.
– Я могу, конечно, не брать трубку, но она не отстанет, будет звонить и звонить.
Она поднялась и снова завязала пояс. – Слушай, давай я с ней поговорю, – предложил Такер. – Если я не смогу обаять ее настолько, чтобы она отрубилась на всю ночь, тогда подключишься ты.
Кэролайн поколебалась, но потом решила, что, пожалуй, в этом есть смысл.
– Почему нет?
Такер мимолетно поцеловал ее.
– Убери со стола, – бросил он через плечо, и Кэролайн засмеялась, понадеявшись, что бабушка не имела бы ничего против пиршества любви на своей кухне.
Такер вернулся очень быстро.
– Неужели ты уже… – начала Кэролайн, но слова замерли у нее на губах, когда она обернулась и увидела его лицо. – Что такое? Что случилось?
– Это не твоя мать звонила. Это Берк. – Такер подошел к Кэролайн и обнял ее, хотя ему самому сейчас поддержка была нужна не меньше. – Пропала Дарлин Тэлбот.
Он снова посмотрел на их отражение в темном окне и снова подумал, как хрупко и призрачно счастье.
– Начнем поиски, как только рассветет.